Маркус Габриэль. Я не есть мозг. Философия духа для XXI века. М.: URSS, 2020. Перевод с немецкого Дагмар Мироновой. Содержание
Как гласит известный анекдот, предложи англичанину и немцу описать верблюда, первый поедет в Северную Африку наблюдать, а второй запрется в заставленном книгами кабинете, чтобы извлечь искомое из сумрачных глубин тевтонского разума. При всей условности подобного подхода он работает, даже если заменить парнокопытное на такой своеобразный «предмет», как сознание. Англо-американская традиция в этом случае сделает упор на экспериментальные исследования нейронаук, а континентальный мыслитель в который раз перечитает Канта, Фихте и Гегеля, чтобы вновь убедить себя и окружающих, что нет ничего в философии, о чем бы эти пророки и апостолы не возвестили в свое время со всей мощью новозаветного откровения.
Маркус Габриэль, молодой боннский профессор с истинно библейским именем, свой крестовый поход против материализма и физикализма начинает с книги «Почему мира не существует» (2013), где защищает тезис о том, что сводить мир как таковой к одной-единственной Вселенной, связанной одной-единственной каузальной цепью, доступной научному объяснению, это неоправданное упрощение, своего рода метафизическая иллюзия. Такого «мира» не существует, а «мы — граждане многих миров», утверждает автор, явно и неявно вызывая дух кантовского дуализма мира природы и мира свободы. На тех же антимонистических позициях стоит он и в следующей книге своей философской трилогии — «Я не есть мозг» (2015), посвященной, как можно догадаться, «трудной проблеме сознания». (Третий том, «Смысл мышления», вышел в 2018-м и, как и первый, еще не переведен на русский язык.)
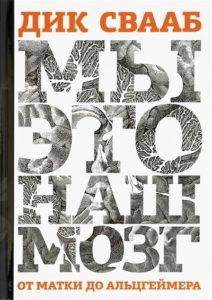 Полемичность книги Габриэля видна уже из названия. «Мы — это наш мозг» — так озаглавлен труд голландского нейробиолога Дика Свааба, собравшего солидный паноптикум «мозговой психопатии» в попытке убедить читателя, что все, что он, дорогой читатель, делает или не делает в жизни, запрограммировано еще внутриматочным развитием его мозга. Истоки такого взгляда — не только «варварского», но и «в основе неверного» — Габриэль видит в диктате натурализма, навязывающего нам представление о том, что «все, что есть, в конечном счете поддается естественно-научному исследованию», а, что не поддается, того и нет. Подобная монистическая и редукционистская позиция не может быть подлинным знанием, она — грубая идеология, подделка под знание. Особенно когда это касается самого сокровенного знания — знания человека о самом себе.
Полемичность книги Габриэля видна уже из названия. «Мы — это наш мозг» — так озаглавлен труд голландского нейробиолога Дика Свааба, собравшего солидный паноптикум «мозговой психопатии» в попытке убедить читателя, что все, что он, дорогой читатель, делает или не делает в жизни, запрограммировано еще внутриматочным развитием его мозга. Истоки такого взгляда — не только «варварского», но и «в основе неверного» — Габриэль видит в диктате натурализма, навязывающего нам представление о том, что «все, что есть, в конечном счете поддается естественно-научному исследованию», а, что не поддается, того и нет. Подобная монистическая и редукционистская позиция не может быть подлинным знанием, она — грубая идеология, подделка под знание. Особенно когда это касается самого сокровенного знания — знания человека о самом себе.
В пылу полемики с нейроцентристами Габриэль даже перехватывает «вражескую» медицинскую терминологию, наделяя их двумя «болезнями»: нейроманией и дарвинитом. Первая заключается «в вере, что можно познать самого себя», познавая мозг, вторая настаивает, что человеческое поведение можно понять, лишь «реконструировав его преимущества для приспособления в борьбе за выживание». Двойная инфицированность нейроцентристов ведет их к отказу от признания сколько-нибудь значимого содержания сознания, то есть к концепту человека-биомашины. Как можно отрицать пропозициональные (то есть содержательные) установки, удивляется Габриэль, оппонируя супругам Чёрчлендам, ведь само это отрицание пропозиционально! А как можно оспаривать существование квалиа (субъективных ощущений), задает он вопрос Дэниэлу Деннету, если только на фоне заранее данного субъективного «жизненного мира» мы вообще способны формулировать какие-либо «объективные», научные тезисы.
В попытках свести сознание к мозгу или к одному из его участков и в результате к колебаниям нейронов (около сорока раз в секунду, по некоторым данным) Габриэль видит крайне примитивную с философской точки зрения, позабытую еще в средневековье концепцию сознания-вещи, сознания-гомункула. Неважно, сидит «человечек» у нас в голове или это мозг зажат в черепе, подслеповато щурясь через глаза-окуляры, на выходе мы имеем нелепую «нарциссическую фантазию», с которой основательно разобрался еще Хиллари Патнэм в мысленном эксперименте «мозг в колбе». Самое же поучительное, считает Габриэль, что, когда мы на позициях нейромонизма переходим от сознания к самосознанию, это только запутывает ситуацию. Чем тогда самосознание (сознание сознания) может быть, как не еще одним модулем мозга, еще одним гомункулом, наблюдающим за первым? А поскольку очевидно, что самосознание может наблюдать и за собой, придется ввести сознание сознания сознания и так ad infinitum. Выход из порочного круга один: «нельзя сознание объяснить посредством него самого». Чтобы понять человека, одного сознания недостаточно.
Что же предлагает Габриэль в качестве позитивной программы? Прежде всего покинуть душную келью черепной коробки, где философски так тесно. Подойти к человеку не изнутри, искусственно взяв его как существо, будто только очнувшееся в незнакомом мире и испуганно озирающееся в поисках опоры, а извне, в его естественной среде — в культуре, истории, социуме. Это то общее, что является частью нас самих, это «содержание нашего сознания, которое находится за пределами нашей черепной коробки», это наше духовное измерение. Вообще любитель давать короткие и емкие определения, Габриэль не наделяет дух точной дефиницией, что и понятно, учитывая его ориентацию на Гегеля. Цитируя Гегеля, — «Дух есть то, чем он сам себя и делает», — Габриэль дает понять, что дух — это мы сами, созидающие, описывающие себя не только как сознание, или как мозги, или как танец нейронов. У такого самоописания непременно должна быть (и есть) история, являющаяся для духа аналогом того, чем является эволюция для наших тел и мозгов. Дарвиновская теория эволюции прекрасно работает на уровне биологической материи, но не нужно превращать ее в дарвинит. В царстве духа расставлены иные вехи: язык, поэзия, мораль. Греческие трагики, Будда и Шекспир могут сообщить нам о духе много больше, чем любой нейробиолог.
 Принимая основное положение социального экстернализма, гласящее, что «некоторое содержание нашего сознания существует лишь благодаря тому, что мы находимся в контакте с другим сознанием», Габриэль переносит его и на дух. Ему очень нравится формулировка Вольфрама Хогребе, которую он несколько раз повторяет: «Дух снаружи, но прорывается внутрь». Наши родители и воспитатели, вся человеческая культура содействуют медленному процессу инсталляции в нас духовного содержимого, которое, как Прометеев огонь, наконец начинает гореть самостоятельно. Одним из следствий этого горения становится самоощущение духа как Я, в котором прорвавшийся внутрь дух находит для себя подлинную опору. Тем самым в человеке появляется центр мышления, желания и целеполагания, который не сводится ни к самосознанию, ни тем более к «симуляции, производимой мозгом», как считает Томас Метцингер, автор «Тоннеля эго», коллега и соотечественник Габриэля. И только принимая во внимание цели и смыслы, порождаемые реальным для нас Я, можно говорить о каком-то понимании собственно людей, а не нейробиоавтоматов.
Принимая основное положение социального экстернализма, гласящее, что «некоторое содержание нашего сознания существует лишь благодаря тому, что мы находимся в контакте с другим сознанием», Габриэль переносит его и на дух. Ему очень нравится формулировка Вольфрама Хогребе, которую он несколько раз повторяет: «Дух снаружи, но прорывается внутрь». Наши родители и воспитатели, вся человеческая культура содействуют медленному процессу инсталляции в нас духовного содержимого, которое, как Прометеев огонь, наконец начинает гореть самостоятельно. Одним из следствий этого горения становится самоощущение духа как Я, в котором прорвавшийся внутрь дух находит для себя подлинную опору. Тем самым в человеке появляется центр мышления, желания и целеполагания, который не сводится ни к самосознанию, ни тем более к «симуляции, производимой мозгом», как считает Томас Метцингер, автор «Тоннеля эго», коллега и соотечественник Габриэля. И только принимая во внимание цели и смыслы, порождаемые реальным для нас Я, можно говорить о каком-то понимании собственно людей, а не нейробиоавтоматов.
Наконец, еще одна важная проблема, которую рассматривает Габриэль, это свобода. Нейроредукционисты уверяют, что свобода наших действий — не более чем иллюзия, по каким-то причинам эволюционно выгодная. На самом деле все за нас «решает мозг», который, в свою очередь, встроен в причинно-следственную связь материальной реальности. Свободе просто неоткуда взяться, если, конечно, речь не идет о какой-либо случайности, например квантовой. Габриэль соглашается, что мы не «однорукие бандиты», зависящие от случайности, наши поступки вызваны определенными причинами и условиями — и все же для свободы остается место. Такая совместимость свободы и «правильного детерминизма» присуща компатибилизму, довод в пользу которого Габриэль находит у Лейбница. Верно, что ничто не происходит без достаточного основания, но это вовсе не значит, что оно тем самым свершается с необходимостью. Нужно различать «жесткие безличные причины», свойственные, например, законам природы, и собственно основания, которые являются не более чем побудительными мотивами действий. Если основанием моего решения бросить курить было осознание вредности этой привычки — это свободный поступок, ведь в нем не было принуждения, и тысячи других людей выбирают иначе. А вот в проблему свободы воли Габриэль предпочитает не впутываться. Воля ему, вслед за Ницше, кажется результатом «ложного овеществления», гипостазирования самой способности что-либо хотеть.
Много еще интересного есть в этой, в сущности, небольшой книжке. Здесь рядом упоминаются Майстер Экхарт и сериал «Фарго», цитируются стихи Рильке, разбирается психология Фрейда и предлагается «медленно наслаждаться» принципами наукоучения Фихте. Справедливо может показаться, что некоторые важные темы затронуты слишком поверхностно и оставлены без окончательного решения, — стиль автора, восхищающегося стилем Ницше, далеко не столь безупречен. Но куда важнее то непроговоренное, что позволяет встроить книгу Габриэля в значительно более широкий контекст, чем споры с аналитическими философами о сознании и свободе. Отвечая сам себе на вопрос, почему же некоторые из его оппонентов отрицают человеческую самость или свободу, Габриэль предполагает, что имеет дело даже не с философской, а с идеологической попыткой человека устранить самого себя и «стать наконец вещью, избавленной от необходимости стоять на шатких ногах самоописаний, которым другие могут бросить вызов». Эдакий страусиный нырок в землю. Оппоненты, в частности Метцингер, напротив, считают свою позицию интеллектуальной честностью, а ее, в свою очередь, — истинным проявлением духовности. Кто же прав?
В каком-то смысле правы обе стороны. Перед нами — два парадигмальных мировоззренческих подхода, не сводимых к одному знаменателю. Только водораздел проходит не там, где иронизирует анекдот. Битву за человека, за его сознание и дух, ведут не англичане с немцами, и даже не представители континентальной философии против аналитической. Но это определенно конфронтация между приверженцами ценностей Модерна и постмодернистами. Между теми, кто в качестве критериев человеческого по-прежнему, вслед за Кантом, Гуссерлем и Сартром, выбирает целостность, тождественность, субъектность, самостоятельность и иерархичность (царственное Я наверху, смутные желания и импульсы бессознательного внизу), и теми, кто видит в таком выборе неприемлемое влияние платоновско-христианских «логоцентричных» схем и предпочитает мыслить категориями децентрации, объективации, симуляции, виртуализации и контингентности. В этом качестве даже такие далекие друг от друга авторы, как Фуко и Деннет, Делез и Метцингер, Харман и Свааб, работают «в одной упряжке», описывая человека не как индивидуума, а как дивидуума: конгломерат, «республика органов», модульная сеть. Неслучайно именно к Фуко обращается Габриэль в финале своей книги, принимая его пари по поводу человека, который якобы вскоре исчезнет, «как лицо, начертанное на песке». Нет, не исчезнет, заверяет Габриэль. Только такими заверениями, а не аргументами, постулированием, а не анализом и может кончиться спор представителей разных парадигм. А после спора каждый отправится своим путем «на шатких ногах самоописаний» — других-то нет.





