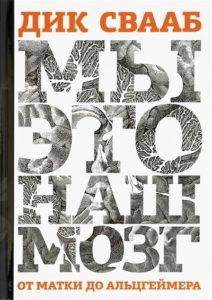Историческая социология от Маркса до Кафки
— В какой последовательности вы бы посоветовали читать те работы, которые доступны российскому читателю: «Капиталисты поневоле», «Что такое историческая социология?» и «Государства и власть»?
— Каждая из этих книг самодостаточна, так что нет смысла располагать их в каком-то особенном порядке. В «Капиталистах поневоле» я попытался объяснить, почему капитализм впервые достиг развитого состояния в Британии и лишь частично развился во Франции и Нидерландах, а в городах-государствах ренессансной Италии его развитие едва ли вообще происходило. Именно в этой книге я представил свою теорию конфликта элит и применил ее к капиталистическому развитию, формированию государства и возникновению религиозных идей и практик после Реформации.
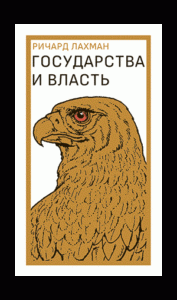 В книге «Государства и власть» дается обзор того, как развивались государства во всем мире, и объясняется, почему они отличаются друг от друга в плане способностей стимулировать экономический рост, побеждать в войнах, обеспечивать социальные блага, создавать или поддерживать демократическое устройство и формировать национальные идентичности людей, живущих в пределах их границ. В этой книге я также объясняю, почему некоторые государства распадаются, и выявляю те силы, которые, по моему мнению, будут в дальнейшем усиливать одни государств и ослаблять другие.
В книге «Государства и власть» дается обзор того, как развивались государства во всем мире, и объясняется, почему они отличаются друг от друга в плане способностей стимулировать экономический рост, побеждать в войнах, обеспечивать социальные блага, создавать или поддерживать демократическое устройство и формировать национальные идентичности людей, живущих в пределах их границ. В этой книге я также объясняю, почему некоторые государства распадаются, и выявляю те силы, которые, по моему мнению, будут в дальнейшем усиливать одни государств и ослаблять другие.
Книга «Что такое историческая социология?» предназначена для социологов, которые хотят узнать, как заниматься этой наукой. Не могу сказать, что в ней представлен некий единый метод, который можно усвоить и использовать. Историческая социология не похожа на обучение количественным методам — думаю, те, кто пытается преподавать историческую или качественную социологию подобным образом, неправильно представляют себе то, чем занимаемся мы, исторические социологи. Так что в моей книге, напротив, представлен ряд образцовых работ, а также интересные примеры неудачных исследований — все это демонстрирует некий набор тех способов, с помощью которых исторические социологи исследуют происхождение капитализма и государств, механизмы функционирования империй, а также причины и динамику революций и социальных движений. В отдельных главах рассматриваются исторические изменения неравенства, гендера и семьи, а также культуры. Наконец, я анализирую то, как наше понимание исторических изменений позволяет делать прогнозы на будущее.
— Какие еще ваши работы стоило бы перевести на русский?
— Надеюсь, что будет переведена и книга «Пассажиры первого класса на тонущем корабле: политика элит и закат великих держав», которую я опубликовал в этом году. В ней рассматривается вопрос о том, почему мировые гегемоны утрачивают свое господство. В первой части книги на него дается ответ в историческом аспекте на примере заката двух предыдущих капиталистических гегемонов — Нидерландов и Великобритании, а также Габсбургской Испании и Франции при Людовике XIV и Наполеоне, которые добились военного доминирования в Европе, но не смогли трансформировать это преимущество в гегемонию. Во второй части книги, где рассматриваются Соединенные Штаты, я демонстрирую, каким образом элитный консенсус обернулся автаркией, подрывающий способность элит развивать и осуществлять проекты, которые способны гарантировать различные формы адаптации, необходимые для поддержания американской гегемонии. Кроме того, я рассматриваю американскую военную сферу, чтобы объяснить парадокс: почему страна, превосходящая всех своих соперников в военной мощи и технологиях, неспособна побеждать в войнах. Также я объясняю, почему США сохраняют финансовую гегемонию и как это их преимущество углубилось в результате финансового кризиса 2008 года.
— Вы принадлежите к следующему поколению англоязычных исторических макросоциологов после «мощных стариков» — Иммануила Валлерстайна и его коллег по мир-системному анализу Теренса Хопкинса, Джованни Арриги, Рэндалла Коллинза, Чарльза Тилли и Майкла Манна. Кто из них оказал наиболее значительное влияние на ваше понимание социально-исторических процессов? Доводилось ли вам работать вместе с кем-нибудь из представителей старшего поколения?
— Нет, я никогда с ними не сотрудничал, да и в целом очень немногие мои статьи были написаны в соавторстве, а все книги я написал сам. Но из чтения работ старшего поколения исторических социологов и историков-компаративистов я действительно почерпнул очень много. Для моих работ о происхождении капитализма наиболее значимыми фигурами были Перри Андерсон, Эрик Хобсбаум, Роберт Бреннер и Майкл Манн, а для моих размышлений о закате США полезнее всего были работы Манна и Арриги. И даже те ученые, которые не повлияли на меня напрямую, или те, с кем я полемизировал на протяжении всей своей научной карьеры (например, Чарльз Тилли), поднимали значительные проблемы и строили свою работу на базе тщательной интерпретации написанного историками и точных сравнений.
— В «Горьком» мы регулярно составляем списки ключевых книг по той или иной дисциплине — в такой «хит-парад» основополагающих работ по исторической социологии вошли и ваши «Капиталисты поневоле». Не могли бы вы поделиться вашим персональным рейтингом главных трудов в рамках этой дисциплины?
— Образцом того, как нужно анализировать политику, для меня остается «18-е брюмера Луи Бонапарта» Маркса, который демонстрирует, как идеология и политические лозунги связаны с организационными аспектами. Самое главное, что показывает Маркс, — как политические результаты зачастую оказываются непредвиденными и как правящий класс, даже несмотря на то, что он делает историю, получает не то, что хотел. Кроме того, Маркс демонстрирует пределы демократии при капитализме. Наконец, его работа просто очень хорошо написана и полна специфического черного юмора.
Книга Чарльза Райта Миллса «Властвующая элита», вышедшая в 1956 году, по-прежнему остается наиболее проницательным исследованием того, как функционирует политика в США. Миллс предложил метод, с помощью которого можно установить, кому именно принадлежит власть. В книге утверждалось, что военная элита не зависит от капиталистов и в состоянии реализовывать собственные проекты: эту идею сочли эпатажной, однако Миллс оказался прав — военные и сегодня по-прежнему обладают автономной властью.
Две великие книги Джованни Арриги, «Долгий двадцатый век» и «Адам Смит в Пекине», демонстрируют наиболее нюансированное применение мир-системного анализа для объяснения исторической траектории капитализма во всемирном масштабе; в них намечено возможное будущее Штатов и конфликта вокруг глобальной гегемонии между США и Китаем в XXI веке. Именно эти две работы я по максимуму использовал в своей последней книге «Пассажиры первого класса на тонущем корабле». Если хотите понять сильные стороны и ограничения мир-системного анализа, читайте Арриги.
Книга Джона Маркоффа «Отмена феодализма» — лучший образец социологического анализа революции и огромный шаг вперед в сравнении с предшествующими работами о революциях в целом и Великой французской революции в частности. Взявшись за самую изученную революцию, Маркофф внес существенный вклад в ее понимание. Полученные им результаты отчасти объясняются тем, что он посвятил десятилетия работы созданию двух масштабных баз данных. В первой из них конкретизированы участники, задачи, цели и результаты для каждого сельского мятежа, произошедшего во время Великой французской революции. Вторая база данных, в которой собраны все жалобы, вошедшие в наказы Генеральным штатам 1789 года, позволила Маркоффу выявить настроения и различия культурных сред аристократии, духовенства и третьего сословия в каждой области Франции в год начала революции. Первую базу данных Маркофф использует для того, чтобы проследить динамику революционного действия, вторая же позволяет ему продемонстрировать, каким образом участники революции осознавали свои требования, как они обдумывали собственные действия, понимали действия своих оппонентов и реагировали на них. В целом этот анализ действия и отношения участников революции к ее событиям и меняющейся ситуации складывается в то, что Маркофф называет кинематографией социальной трансформации. При этом он переворачивает концептуальную структуру работ наподобие известной книги Теды Скочпол «Государства и социальные революции»: вместо поиска причин и сопоставления следствий (так революции остаются, по существу, неизученными «черными ящиками») Маркофф сосредоточивается на сложности революции как таковой. Он обнаруживает разнообразие причин в разных проявлениях революции и объясняет результаты с помощью процессов революционной защиты и нападения на обширной и неоднородной территории Франции, где действовали субъекты с разными идентичностями и сложными социальными статусами.
Книга Паскаль Казановы «Всемирная республика литературы» содержит новый метод интерпретации письменных текстов и тем самым дает принципиально новое понимание литературной идентичности и литературного влияния. Казанова объясняет, как располагать отдельных авторов в пространстве и времени мировой системы, параллельной мировой капиталистической системе (но несводимой к ней), которая описана у Валлерстайна и Арриги. Каждый писатель формируется за счет возможностей и ограничений своего положения в той национальной литературе, которую он представляет, а она, в свою очередь, определяется местом конкретной страны и конкретного языка в мировой литературной системе. Лишь немногим нациям и немногим авторам удалось трансформировать международную систему литературного производства и потребления, чтобы увеличить свой престиж и престиж своей литературы. Казанова объясняет это известным парадоксом: самые новаторские, а в конечном итоге и самые влиятельные писатели — выходцы из отсталых регионов (наиболее примечательные примеры: Джойс и Беккет из Ирландии, Фолкнер из южного штата Миссисипи, Гарсия Маркес из Колумбии). Во второй книге Казановы, «Кафка. Разгневанный поэт», предложено новаторское и проницательное прочтение произведений автора «Замка» и анализ того, какую роль он играл в чешских, немецких и еврейских интеллектуальных дискуссиях начала ХХ века. Сам Кафка находился на обочине каждой из этих традицией, однако объединил их в корпус произведений, которые вознесли его на вершину литературы ХХ века. Словом, в этих двух книгах мы находим мощную новую методологию для изучения культуры. Работы Казановы должны занять важное место в дискуссиях о культурном развитии и будущем направлении сравнительно-исторической социологии.
«Государства и власть» между двумя кризисами
— Давайте перейдем к вашей книге «Государства и власть», которая недавно вышла на русском. Вы написали ее вскоре после мирового кризиса 2008 года — требуется ли сейчас, в момент очередного глобального кризиса, вносить в нее существенные изменения? Вы в целом очень уверенно оцениваете перспективы государства как такового, хотя последние несколько лет много говорилось о том, что государство не способно справиться с вызовами современности, а причины, вызвавшие кризис 2008 года, только усугубились: резко выросли объемы государственных и частных долгов, продолжает увеличиваться неравенство, обострилась борьба за глобальную гегемонию. Справляется ли государство с этими вызовами или же оно демонстрирует все больше дисфункций?
— Да, я писал эту книгу во время финансового кризиса 2008 года и в том же году сдал ее в издательство, но вышла она только в 2010-м. Один из предложенных в ней прогнозов точно не верен: речь идет о закате гегемонии доллара. Ирония в том, что и кризис 2008 года, и нынешние финансовые проблемы, порожденные пандемией коронавируса, усилили эту гегемонию и привели к тому, что Федеральная резервная система США стала единственной инстанцией, способной регулировать мировые финансы. В финансовой сфере гегемония США мощна как никогда, даже несмотря на упадок американского могущества в других сферах.
 Ричард Лахман
Ричард Лахман
Но все же мне есть чем гордиться, поскольку в этой работе я предвидел дискуссию об изменениях климата, и я по-прежнему уверен, что в наиболее влиятельных странах климатические проблемы увеличат потенциал государств — хотя, возможно, я ошибся, назвав в числе этих стран США. Значительная часть книги была написана в тот момент, когда большинство американцев выступили против коррупции и невежественного империализма администрации Джорджа Буша-младшего, кульминацией чего стало президентство Обамы. Однако я не думал, что Обаме удастся довести до конца столь немногое, а на смену ему придет Трамп, и республиканцы почти единодушно поддержат его агрессивные нападки на потенциал американского государства. Аналогичное развитие событий в Великобритании вокруг Брекзита демонстрирует, что Трамп не единичный несчастный случай, но наиболее показательный пример того типа саморазрушения государства, опасность которого я не сумел спрогнозировать, — и этот момент придется прояснить в новом издании.
— В «Государствах и власти» вы утверждаете, что знакомое нам государство возникало одновременно с появлением капитализма на рубеже XV–XVI веков, и отсюда мой следующий вопрос: а есть ли будущее у капитализма? Вдвойне интересно задать его вам, поскольку вы не участвовали в одноименном сборнике, где ответы на него предложили Валлерстайн, Манн, Коллинз, Георгий Дерлугьян и Крейг Калхун.
— Государства обладают огромной властью — частично она применяется в ежедневном режиме, но часть власти лишь потенциальна, она ждет, когда ее высвободят массовые движения, выступающие с требованиями реформ и новых социальных программ. Напротив, у гигантских капиталистических компаний никогда еще не было такой мощи, как сейчас. Таким образом, у государств есть будущее — они могут быть основой стабильности и прогресса. Капитализм определенно не способен справиться с климатическими изменениями — по сути он лишь усугубляет глобальное потепление. Думаю, Валлерстайн был прав, утверждая, что наступает эпоха последних стадий капитализма, и вопрос лишь в том, получим ли мы систему еще хуже вместе с экологической катастрофой или же появятся массовые движения, способные предложить гуманитарную альтернативу. Подобно Антонио Грамши, я с пессимизмом смотрю на людской интеллект, но с оптимизмом — на волевое действие.
— В «Государствах и власти» вы утверждаете, что новые протестные движения представляют собой потенциальный риск для государства. Какое развитие может получить эта мысль после появления французских «желтых жилетов» и тем более американского BLM? Как вы оцениваете потенциал этих движений: действительно ли они опасны для государства и элит или же они не в состоянии ничего изменить хотя бы потому, что не имеют централизованной организации?
— Я никогда не считал, что у социологии или любой другой дисциплины могут быть убедительные объяснения того, почему, когда и где возникают протесты. В некотором смысле это обстоятельство меня обнадеживает, поскольку непредсказуемость массовых движений — это единственная, на мой взгляд, возможность перевернуть ту зловещую траекторию, которую я описываю в своей последней книге, да и почти во всех своих работах. Сейчас в Америке случилось неожиданное массовое движение, и оно уже добивается ряда уступок.

Чтобы быть эффективными, таким движениям не требуется централизованной организации — нужно всего лишь суметь нарушить привычный ход жизни. У движения BLM есть умная стратегия. Оно выдвигает далеко идущие и при этом неопределенные требования наподобие лишения полиции финансирования — эти требования не конкретизируются, активисты просто ждут от чиновников и капиталистов одних уступок, а потом других, на которые те пойдут в надежде, что протесты улягутся. Кстати, здесь мы видим урок из «Отмены феодализма» Маркоффа: французские революционеры, особенно крестьяне, выдвигали всевозможные требования, но их протесты и агрессия были направлены главным образом на аристократов. Национальное собрание шло на одну уступку за другой, а кульминацией стала отмена феодальных повинностей в попытке утихомирить протесты.
Сегодня наиболее эффективные массовые движения нацелены на капиталистов и корпорации, а не на государство — подробно об этом говорится в только что вышедшей книге Кевина Янга, Таруна Банерджи и Майкла Шварца «Рычаги власти: как 1 % правит и что с этим могут поделать 99 %». В ней показано, что по меньшей мере в США реальная власть в значительной степени осуществляется корпорациями, и, если корпорации ощущают протестное давление, они легко могут заставить государство пойти на реформы или на уступки.
Мой вклад в разработку этой темы — акцент на расколе между элитами. Там, где элиты разделены и находятся в конфликте друг с другом, они слабее, а еще важнее то, что некоторые элитные группы вступают в альянсы с широкими массами, чтобы получить перевес над элитами, конкурирующими с ними. Активистам с умной стратегией это дает возможность выявить такой конфликт и установить, какие из элитных групп открыты к подобным альянсам. Так я сам и, надеюсь, представители социальной науки в целом можем внести свою лепту в процесс политических изменений.
Интеллектуальная исчерпанность неолиберализма
— Я хотел бы вернуться еще к одной теме, заданной кризисом 2008 года — к концу доктрины неолиберализма. С одной стороны, понятно, что она себя полностью изжила, о чем говорит новая всемирная волна протекционизма и санкционных войн. При этом ведущие интеллектуалы сегодня гораздо более восприимчивы к левым идеям, чем еще десять лет назад. С другой стороны, либерализм сделал свою работу более чем эффективно — я имею в виду беспрецедентный уровень неравенства, уничтожение социального государства, приватизацию общественных активов и т. д. Ситуация, когда само государство приватизировано различными заинтересованными кругами, кажется необратимой, и необходимость неолиберальной идеологии становится все более призрачной. Но какой может быть новая доминирующая идеология — и появится ли она вообще?
— Я бы поставил вопрос еще шире: капиталисты и правые, похоже, пришли к исчерпанию своих идей. Слишком многое изменилось с 1970–1980-х годов, когда либерализм, казалось, мог объяснить внезапную экономическую стагнацию, а кейнсианству не удалось вновь стимулировать рост (в действительности это произошло потому, что кейнсианские меры не внедрялись с достаточной решимостью). Кроме того, как советский, так и китайский варианты коммунизма не выглядели тогда жизнеспособной альтернативой.
Сегодня дело обстоит иначе. Во-первых, левым больше не нужно давать объяснения или оправдания существующим коммунистическим режимам. Тот же Китай никто всерьез не рассматривает иначе как образец крайне репрессивного капитализма — ну а Советский Союз давно почил. Во-вторых, экономика США и большей части планеты сталкивается с еще более серьезными проблемами, чем в 1970-х. В сравнении с темпами роста в Европе и Северной Америке XXI века экономическую динамику 1970-х можно считать чудом. Вину за это несет только капитализм — в особенности процесс финансиализации. Неравенство вернулось на уровень до 1929 года. В-третьих, левые сформировали представление о том, какие реформы требуются обществу — думаю, их основой будет Зеленый новый курс. Реформы обеспечат хорошие рабочие места, приведут к продуктивным для общества инвестициям и разрешат климатические проблемы, которые представляют собой реальную угрозу для существования человека на планете.
Этот интеллектуальный прорыв левых и интеллектуальная исчерпанность правых наряду с очевидными провалами неолиберализма не означает, что те или иные изменения неизбежны. Элиты обладают такой мощью и такими ресурсами, что низвергнуть их будет сложно. Элиты уязвимы только тогда, когда вызов им бросают массовые движения, а интеллектуальная легитимность — реальный фактор для масс, стремящихся бросить вызов элитам в надежде, что их протесты и забастовки приведут к подлинным изменениям.
— Один из главных тезисов вашей книги — возможность разрешения конфликта между Китаем и США таким образом, что в мировой системе больше не будет единого гегемона. Выдержала ли эта гипотеза проверку временем? Можно ли рассматривать китайско-американский конфликт как некий вариант очередной тридцатилетней войны, которая, как утверждал Валлерстайн, всякий раз сопутствует смене гегемониального цикла? В какой точке этого процесса мы находимся сейчас: если обратиться к терминологии Арриги — у нас сигнальный кризис американской гегемонии или уже терминальный?
— Думаю, сейчас наступило время сигнального кризиса гегемонии США. Что касается валлерстайновской концепции тридцатилетних войн, то она слишком механическая, и я сомневаюсь, что между Китаем и США в ближайшее время может начаться война. О такой возможности говорили и Валлерстайн, и Арриги, но я не соглашусь с ними в том, что восхождение и закат держав-гегемонов следует строгой хронологии смены кондратьевских циклов.
Я по-прежнему уверен, что на смену США не придет новый гегемон — как минимум в течение нескольких десятилетий. Евросоюз не способен взять на себя глобальное лидерство и не желает осуществлять те инвестиции и приносить те жертвы, которые необходимы для притязания на подобное могущество. Китай хотел бы стать глобальным лидером, но по меньшей мере сейчас он не желает принимать на себя издержки от превращения юаня в глобальную валюту. Могущественные капиталистические элиты Китая чувствуют себя гораздо лучше в мире доллара, а китайское государство неспособно сломить их и навязать им переход от экспорта к концентрации на внутреннем рынке, что является необходимым условием для открытия финансовых рынков и захвата юанем финансового лидерства. Кроме того, Китай очень осторожен в утверждении своей военной мощи — думаю, главным образом потому, что его руководство здраво оценивает риски прямой конфронтации с США. Вместо этого Китай разумно выжидает, когда США утратят свое могущество и перестанут быть державой-гегемоном.
Примером того, как Америка теряет гегемонию, может быть ее реакция на коронавирус — США оконфузились перед лицом всего мира. Трамп показал себя клоуном, неспособным контролировать и слабо владеющим ситуацией. Хуже того, Республиканская партия, суды, Конгресс и общество в целом позволяют ему и дальше демонстрировать свою некомпетентность и фиглярство. США сейчас ведут себя не как лидер — напротив: они пытаются удерживать медицинские ресурсы вместо того, чтобы делиться ими с остальным миром. Если оставить в стороне Трампа и его союзников, то в целом реакция элит на коронавирус показывает, что они блюдут собственные интересы. Компании расхищают средства, выделенные на экстренное спасение бизнеса, как показал Роберт Бреннер в своей статье для последнего номера New Left Review. Фармацевтические компании не делают почти никаких самостоятельных инвестиций, рассчитывая вместо этого на правительственные контракты, которые предоставляются без каких-либо требований относительно успешности разработок и позволяют компаниям взимать за созданные почти полностью за счет государства вакцины и лекарства столько денег, сколько они захотят. Урок для всех стран мира заключается в том, что они должны выстраивать свое экономическое и геополитическое управление таким образом, чтобы быть максимально независимыми от США.

На что способны и на что неспособны империи
— В завершение хотелось бы задать несколько вопросов о России. В «Государствах и власти» вы прослеживаете истоки современной российской политики вплоть до особенностей формирования государств Восточной Европы в период раннего Нового времени, а главной из них называете то, что, в отличие от Западной Европы, конфликт элит там почти не был выражен. Как сегодня можно изменить эту траекторию? Или же недавнее принятие поправок к Конституции действительно зацементирует текущее положение вещей?
— Русская революция стерла с лица земли большую часть феодального наследия и специфики, обусловленной формированием государств в Восточной Европе. Советское государство функционировало с иным набором элит, а следовательно, и с иной динамикой. В «Государствах и власти» я уделил России мало внимания и не рассмотрел проблему империи — а важнейший момент преемственности между царской Россией, Советским Союзом и посткоммунистической Российской Федерацией как раз заключается в том, что все эти политические формации являются империями, охватывающими множество этничностей.
Ельцин, приватизировав государственные компании, создал олигархов — новую элиту, которую отчасти удалось укротить Путину. К сожалению, на английском не так много хороших исследований об отношениях между Путиным и олигархами — в основном болтливый журнализм. Так что на те вопросы, которыми я задаюсь по поводу России, я смог бы найти ответы, если бы читал по-русски. Для того, чтобы понять, как функционирует путинское государство в условиях ограничений, схожих с другими странами, и чем оно отличается от них, необходимо систематическое сравнение отношений между российским государством и его капиталистами с аналогичными отношениями в других государствах. Как только получится поставить Россию в подобный сравнительный контекст, появится возможность определить подлинный смысл путинских поправок. Хотя мне кажется, что они придают официальный и правовой статус де-факто имеющейся ситуации: Путин пожизненно остается главой государственной власти.
Наконец, необходимо признать, что политика России отчасти формируется ее геополитическим положением. Россия остается крупной военной державой — главным образом благодаря своему гигантскому ядерному арсеналу. Я куда скептичнее отношусь к возможности того, что Россия нанесет удар по своим соседям, чем внешнеполитический истеблишмент США или американские журналисты, выступающие в роли их говорящих голов. Российская армия плохо оснащена и пополняется деморализованными и запуганными призывниками. Путин блестяще использовал свою ограниченную мощь для подрыва слабых и расколотых государств наподобие Украины, но его способность напасть даже на небольшие, но целостные государства типа прибалтийских стран, которые к тому же входят в НАТО, гораздо сомнительнее. Думаю, он продолжит запугивать прибалтийские страны и другие государства, а поддержку в этом ему окажет истерия США и НАТО, которая во многом вдохновляется желанием военных кругов этих государств наращивать страхи ради обоснования более значительных бюджетов.
Таким образом, у России есть два преимущества. Первое из них — превосходные тактические действия Путина, а второе — слабость Америки, которая, конечно же, увеличилась в президентство Трампа. С другой стороны, размер экономики России невелик, и крах нефтяных цен — а они могут никогда не восстановиться — создаст бюджетные проблемы, которые будут мешать Путину укреплять российскую армию и вмешиваться в дела других стран мира. Действия России в Ливии, Сирии, на Украине и в других местах обошлись сравнительно дешево, но даже такая цена может оказаться слишком высокой, особенно если обычные россияне начнут активно протестовать против плохого качества государственного управления.
— Какие книги по политике и истории оказали наибольшее влияние на ваши представления о России? Какие исследовательские темы вы бы могли порекомендовать российским историческим социологам?
— Мое знание о России и посвященных ей исследованиях довольно ограниченно — как я уже сказал, мешает незнание русского языка. Тем не менее могу назвать ряд работ. Из всего, что я читал о крахе Советского Союза, наиболее убедительным мне показался анализ, приведенный в книге Джона Паджетта «Возникновение организаций и рынков». Самую важную общую информацию об устройстве российского государства и его отношении к другим империям я почерпнул из книг «Империи России» Валери Кивелсон и Рональда Григора Сюни и «Имперские перспективы: как пять имперских режимов сформировали мир» Кришана Кумара. Я представил подробный обзор этих и других работ наряду со своими общими представлениями о том, как следует изучать империи, в статье «На что способны и на что неспособны империи» (Comparative Studies in Society and History. Vol. 60, #4, October 2018). Наконец, могу упомянуть книгу Юрия Слезкина «Дом правительства» — это любопытное чтение, хотя ее ценность как исследования невысока.